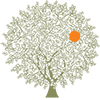Иван Дыховичный – самостоятельный человек
Опять захотелось обернуться. И поискать опору в прошлом. Чтобы заново услышать Ивана Дыховичного, которого уже нет с нами. Я взяла у него это интервью в 1992 году, во время его работы над фильмом «Прорва». Частично его тогда опубликовала газета, которой тоже сейчас нет.
Меня потянуло перечитать нашу беседу – полный вариант. Я и забыла, с каким тактом и как серьезно мудрый человек, мастер своего дела, отвечал на мои порой наивные вопросы. А вы удивитесь, насколько актуальны его ответы сейчас. Такая вот особенность у мудрости: с годами она становится современнее.
Иван Дыховичный был благополучным человеком. Рос в порядочной семье, с достатком – его отец писал скетчи, юмористически рассказы для эстрады и жил припеваючи.
Иван Дыховичный был актером в популярном театре на Таганке. Играл Бегемота в «Мастере и Маргарите». Его любил Любимов.
Иван Дыховичный женился по любви на дочери члена Политбюро.
Казалось, жизнь баюкала его в заботливых руках.
Иван Дыховичный страшно рассердился на себя в роли поплавка. И все разрушил, что судьба ему подстроила. Образовал вокруг себя личный водоворот и втянул в воронку родных по духу людей. Будто ушел из собственного прошлого резко в сторону и вперед.
Иван Дыховичный стал неудобным человеком. И себя нынешнего он любит больше, чем благополучного вчерашнего.
Он мог стать популярным, как Александр Абдулов, Леонид Ярмольник, Амаяк Акопян. А ушел из актеров в режиссеры, словно освободился от тесного пиджака. Чтобы полной мерой хлебнуть «доброжелательности» киноколлег. Иван Дыховичный не вписался. Таков его жребий. Ни ажиотажа вокруг имени, ни фанатов. Трудно уловить, для какого круга людей имя кинорежиссера Ивана Дыховичного ассоциируется хотя бы с фильмом «Черный монах». Но именно такие люди, как он, делают искусство. Сопротивляясь окружающей среде.
– Иван, кем вы себя ощущаете в настоящем времени?
– Самостоятельным человеком. Я участвую в происходящем, но так, как считаю нужным. Редко кто может поставить себя в ситуацию, когда ему как бы нечего терять, может позволить себе не суетиться. Я с раннего сознания не имел иллюзий, хотя и нигилистом не был. Если тебе претит происходящее вокруг, если не можешь больше терпеть, надо решиться и вырваться из круга. Есть же другие места, другие страны. Свой народ – это люди, с которыми ты разделяешь определенные взгляды, а не те, с кем связан расовыми признаками.
– Что вас оскорбляет в поведении людей?
– Неверное отношение к труду. У нас произошла подмена понятий: обязанность человека перед жизнью выродилась в корысть. Отрицание в себе человеческих качеств приводит к страшным извращениям. Я это наблюдаю на съемочной площадке. Раньше система была рабская, унизительная – людей заставляли работать, и они работали столько, сколько им говорили. Существовало множество социальных мер воздействия, абсолютно несправедливых. Но благодаря этой ужасной аморальной системе работу выполняли. Систему отменили, другая на ее место не пришла. В кино это выражается в следующем. Все службы приняли решение: работаем восемь часов в день. Как если бы врачи сказали: на каждую операцию мы отныне будем тратить не больше часа, на этом настоял коллектив. Свобода! Мы работаем восемь часов на натуре. Два часа на дорогу со студии, два – на возвращение, один час обед. Остается три часа на съемки. Это нереально. Приехали, чтобы пообедать. В этой стране торжествует глупость. У нас этакое оскорбленное самолюбие бывшего раба. Принципом распознания является точно сформулированное толстовское понятие: человек есть дробь с числителем и знаменателем; числитель – это то, что он собой представляет, а знаменатель – то, что о себе думает. Как известно, чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Сегодня у всех огромный знаменатель.
 – Как вы думаете, почему для нас состояние несвободы ближе, роднее, чем состояние свободы?
– Как вы думаете, почему для нас состояние несвободы ближе, роднее, чем состояние свободы?
– Это вопрос не одного дня, не одного года. Всегда хочется в таких случаях опереться на авторитеты, отослать к каким-то координатам, которые для меня являются верхними. Я думаю, что Чаадаев лучше всех об этом написал… У меня чисто эмоциональное чувство, скажем, есть реостат, вы его поворачиваете, электричество плавно прибавляется или убавляется. У нас нет этой плавной фазы. Есть или начало, или конец. Как только попадается элемент, у нас начинаются сбои: или мигание, или темнота. Вот эти сбои очень трагичны. Что это такое? Культура? Ну что, француз или немец культурнее нас? Вроде нет, нам так не кажется. Но у него есть свой кодекс, который он не нарушает. Если нарушит, тут же вылетит из общества, из жизни. Это отлажено. У нас такого нет. Когда люди ориентируются, скажем, на тот же Верховный совет… Нет ни ориентира, ни примера… Какие-то личные примеры, которые были раньше авторитетны, теперь не авторитетны. Мы смотрим на них и видим: ни дачи, ни машины нет, какой же это авторитет!
– Вы для себя выработали спасительные правила жизни, установки?
– Не уверен, что это может быть рецептом для каждого, потому что я обладаю определенным набором собственных достоинств и недостатков. Среди моих ведущих качеств – упрямство, врожденное желание что-то делать. КПД у человека, как у паровоза, иногда проделаешь огромный путь, и в последний момент все рушится, а чтобы начать заново, нужно быть либо фанатиком, что опасно, либо обладать внутренней запрограммированностью. Ты подвержен иронии, тебя выводят из себя, говорят, что ты тупой, ты должен принимать целый ряд условностей, подстраиваться… Я полагаюсь на свои человеческие качества, отталкиваясь от того, что должен сделать, и должен верить, что сделаю это. Сделать и понять для себя, пользу я приношу или вред. Тем более что врагов и людей, которые с тобой борются, всегда предостаточно. При таком индивидуальном пути в жизни тебя начинают испытывать, потому что ты раздражаешь: почему позволяешь себе быть таким упрямым, таким независимым? В результате собираешь на себя большую лупу, которой сам себя активно прожигаешь. Я ни в коем случае не считаю себя несчастным человеком, наоборот. Естественно, иногда беру на себя больше… Возникает больше проблем, но это я сам беру, мне не на кого роптать.
При таком индивидуальном пути в жизни тебя начинают испытывать, потому что ты раздражаешь: почему позволяешь себе быть таким упрямым, таким независимым? В результате собираешь на себя большую лупу, которой сам себя активно прожигаешь.
– Для вас кино – способ наиболее полной самореализации?
– Кино – это то, в чем я себя нашел. Я был актером. Все складывалось вполне успешно, то есть я достиг такого уровня, чтобы не чувствовать себя угнетенным. И все-таки я не мог достаточно полно выразиться. Ушел из театра в момент, с актерской точки зрения, когда мог иметь все, что нужно человеку, занимающемуся театром. В своих фильмах я не играю и не хочу. Никаких комплексов на этот счет у меня нет.
– Вам никогда не хотелось заложить душу дьяволу, чтобы облегчить себе творческую жизнь?
– Никогда не хотелось. Конечно, как каждый человек, я поддаюсь иногда искушению, но мне всегда удавалось отражать эти искушения не умом, а чисто интуитивно: вот это нельзя делать. Проблемы моих взаимоотношений с дьяволом – они у любого человека бывают – лежат в другой области, в области характера. Хотя говорят, что судьба человека и есть характер. Но то, что я не на стороне дьявола, – это точно. Предложений с его стороны было достаточно. Причем авансы все время увеличиваются. Но, думаю, мое искушение уже не в области увеличения аванса.
 – Творцу по духу ближе сатана?
– Творцу по духу ближе сатана?
– Наверное, да. Это связано с нашей традицией восприятия Бога. Наш Бог строгий, стерильный. На самом деле это нечто совершенно другое: радостное, живое, ироничное… Я не могу принять религию такой, как она сформулирована, – слишком прямолинейно. И от этого мне тяжело. Ведь если ты к чему-то присоединяешься, сразу делается легче. Легкости мне иногда не хватает, и я страдаю.
– Вы не замечали, каких людей к вам чаще прибивает – носителей черной или белой энергии?
– Точно – носителей белой энергии. Меня настораживает другой момент: ни с кем в жизни я не остался в абсолютной связи, в дружбе до смерти. При том, что дружу с людьми, люблю людей. Никогда не был человеком, который мистически влияет на окружающих. Ко мне не прибивало учеников, истерических женщин, кликуш. Хотя я понимаю механизм, как стать таким магнитом. Но мне гораздо ближе более человеческие отношения. Для меня черное – это вещи, которые сбивают с настоящего пути. В детстве я выработал принцип: если все бегут налево, то надо идти направо, если все говорят «иди туда», никогда туда не ходи. Благодаря примитивному, казалось бы, принципу я очень много в жизни выиграл.
– Бывает так, что человек, с которым вам было хорошо, стал для вас пройденным этапом, полустанком, который вы миновали, а он продолжает вас тянуть к себе и мешает двигаться дальше?
– Да, обязательно. Я перестал изображать, подыгрывать. Если я не хочу с человеком общаться, я никогда не поступлю плохо по отношению к нему, сделаю что смогу, если понадобится, но быть с ним в близких отношениях перестану. Мне почти 44 года, я несколько раз отходил от своего поколения, принадлежал следующему поколению, еще одному… Я не с ними, у меня нет с ними общих интересов, мне хочется с более молодыми генерациями проживать какие-то моменты. Иногда я первым вижу что-то молодое и талантливое. Но обидно, что оно не находит своих границ, своей формы, не делается достаточно интересным. Есть три фазы развития любого явления. У нас, к сожалению, первая фаза бывает часто, вторая – случается, третьей почти не бывает. То есть мы ни в чем не доходим до совершенства, нам хочется бежать дальше, дальше. Мы кочуем по жизни, по пространству. Не зря мы такую территорию занимали.
– У вас случаются периоды усталости от жизни?
– Конечно. Я отношу это за счет физического состояния организма. Апатии бывают у всех людей, просто раньше они у меня случались реже, потому что был моложе. Наша среда ужасно угнетает человека. И остаться веселым, живым трудно, потому что очень глупая жизнь. Если бы я был человеком свободной профессии, писателем, художником, я бы создал себе мир, в котором существовал бы, как в вакууме. Но моя профессия – производство. Огромное количество людей, характеров. Я должен быть и купцом, и дельцом, жестким, хитрым. Спасает то, что я прошел актерскую школу и могу изображать, никогда не подпуская к себе, не выдавая истинных чувств. Главное – не доиграть до момента, когда это начнет тебя волновать, то есть в игре начнешь входить всерьез. Тогда ты пойман, тебя растопчут, ты проиграл. Нельзя поддерживать себя подобными установками: я должен, мое предназначение. Это очень опасно для художника. Так же, как создавать гениальные произведения. «Я должен сделать талантливую картину» – звучит как: «я должен влюбиться». Что значит должен? Не получится. Тебе необходимо пребывать в состоянии уверенности, одновременно понимая,
что ты такой, как все, – может не получиться. При этом убеждать
остальных, что обязательно получится, иначе люди не станут тебя
поддерживать.
Полгода я работал во Франции, делал фильм, был один среди чужих. Больше всего поначалу угнетало, что ни с кем не мог посоветоваться, поделиться. Я говорил оператору: мне кажется, здесь надо вот так и так? С вопросительным подтекстом. Он смотрел на меня, как солдат на вошь, не понимая, чего я от него хочу. Ему требовались определенность и конкретность: «Делай вот так!» Меня убеждали, что с людьми следует поддерживать близкие отношения для пользы дела, всех шармировать, расточать улыбки, дарить подарки, дурить, как я это называю. А я уважаю тех, с кем работаю, и дурить их не могу. И не понимаю, почему два часа должен обхаживать гримера, чтобы он выполнил свои обязанности. Гример должен быть профессионалом, настроенным на работу. Конечно, все не так буквально. Со всеми у меня были хорошие отношения. Просто там, во Франции, нет умиления, нет путаницы между жизнью и работой. У нас оператор, видите ли, трудится, потому что меня любит. Не надо меня любить! Работай. Если б мы это поняли, наша страна взлетела бы. Потому что энергии много, но она испаряется бессмысленно, в пустоту. Можно сказать, что наша жизнь тяжела. Но ведь когда говоришь человеку: если ты тоскуешь оттого, что нет колбасы, сделай так, чтобы она была, – хотя бы это ты можешь сделать? – в ответ: да-а-а, буду я ради колбасы… Опять противоречие. Если тебя не интересует колбаса, живи ради чего-то другого. Это интересует – добейся этого. Как дети. Они никогда не требуют чего-то глобального. Они добиваются конфеты, скажем. Я уважаю ребенка за то, что вот он хочет конфету и получит ее. Можно направить его энергию на иное, лишь бы был результат.
Тебе необходимо пребывать в состоянии уверенности, одновременно понимая, что ты такой, как все, – может не получиться. При этом убеждать остальных, что обязательно получится, иначе люди не станут тебя поддерживать.
– Комплекс жертвы, которая лелеет в себе этот комплекс и не хочет с ним расставаться?
– Да, поглаживает, наслаждается. У меня были разные периоды. Мне не давали снимать четыре года. Я брался за другую работу, за любую, и за нее отвечал, мне стыдно было делать ее плохо.
– Какие у вас взаимоотношения с одиночеством? Вас не угнетает это состояние?
– Одиночество хорошо как разнообразие, но это опасная вещь. Человек ставит себя в неестественные обстоятельства – он отходит от жизни, постепенно это превращается в болезнь, наркотик. У меня в гороскопе, хотя я с иронией отношусь к этим вещам, написано, что я не участвую ни в каких акциях. Я еще смеялся: тупой гороскоп, а точно написано. При том, что я часто чувствую, что меня могут сделать лидером, люди мне симпатизируют, я могу обаять, роль сыграть. Но я всегда ухожу от лидерства. Мне не нужны власть, место, пост. Меня это не пугает, просто не нужно.
– Задатков тонкого диктатора в вас нет?
– Абсолютно. Я считаю, что с людьми надо договариваться. Меня сбивает иногда мой тон – от нервности я иногда неправильно себя выражаю.
– Понятие «мой черный человек» для вас значимо?
– Да. Человеку, такому, как я, ближе всего состояние печали. Самое прекрасное чувство. Но очень опасно получать удовольствие от печали. Это и есть мой черный человек. То есть я могу дойти до такого предела в этой печали, что почувствую бессмысленность всего, что делаю. В такие моменты я понимаю, что лучше бы куда-нибудь поехать, чем-то увлечься.
 – А как вы освобождаетесь от разлада в себе?
– А как вы освобождаетесь от разлада в себе?
– Это бывает нечасто. Я все-таки делаю то, что хочу. Человеку важно найти свое место. Это может быть любовь, семья, ребенок. Тогда он дальше сможет. Но если у тебя дома нехорошо, не к кому пойти, это, конечно, чудовищно. Тогда можно пойти в церковь, еще куда-то, где много народу. Хотя я в таких местах себя плохо чувствую.
– Каковы же ваши источники питания?
– Любовь. И когда что-то получается, мои фантазии, представления, когда я вижу, что все гармонично, то, что я много лет выстраивал, и никто не верил, а оно подтвердилось.
– Ваши фильмы вас устраивают?
– Да. Это не надо понимать так, что они совершенны. Я очень страдаю, что сделал в них что-то не так. Но это дети. Там все живое. Все мое. Нет ничего сделанного вопреки себе. Все думают, что кино – массовое зрелище и что должно быть огромное количество подтверждений, что это хорошо. На самом деле, нужно подтверждение двух-трех людей.
– Вас знают как режиссера «Черного монаха», остальные фильмы мало кто видел.
– Вот именно. Меня никто не знает. Обо мне есть некий слух. А ведь я сделал четыре маленькие картины и две большие – «Черный монах» и «Красная серия» по фотографиям, ее я снимал во Франции. «Монах» у нас почти не шел. Он шел на Западе, куплен многими странами, получил два хороших приза. А здесь меня просто выгнали со студии. Не какие-то консерваторы-начальники. Мои же коллеги. Как со мной поступили, равносильно тому, как если бы человеку сказали: тебе надо сделать операцию – лоботомию, которая превращает человека в другое существо. Если за подобную рекомендацию я способен поцеловать руку, тогда я раб, ничтожество. Я ни на кого не затаивал обиду, не собираюсь мстить. Могу просто не дать руки. Вот вся моя акция.
А французы меня поддержали. Я показывал «Черного монаха» в Венеции, и мне говорили: у вас перестройка, а вы «Черного монаха» снимаете, как так можно? И спрашивали, как я отношусь к «Маленькой Вере». Очень хорошо отношусь. Но нельзя же путать. Есть галоши, ботинки, а есть произведения искусства. Мне в голову не придет сравнивать Густава Малера и Фрэнка Синатру. Глупая система сравнений. В Америке кино занимает место среди таких понятий, как ресторан, одежда, врач. У нас теперь это тоже – одежда, врач, магазин. Если вас устраивает подобное кино, пожалуйста. Я такое кино не снимаю. В моем сегодняшнем фильме лежат деньги трех продюсеров: французского министерства культуры, «Мосфильма» и советского предпринимателя. Причем человек, в котором я сомневался, далекий от кино, помог мне больше остальных. Потому что он всю жизнь сам пробивался. Он знает, если уж дал деньги, то должен помогать до конца, иначе глупо связываться. Я благодарен французам. Не было бы их – наш продюсер не возник бы. Ведь он вкладывает, потому что получит прибыль в валюте. Плюс – престиж. Ему не стыдно будет показать: вот я делал картину, такое имя…
Простой пример. Мамонтов, кажется, купил в Париже картины Гогена. Терпеть этого Гогена не мог, но купил, а ему там говорят: мы тебе даем по 15 тысяч за полотно – продай. Продал. Опять поехал в Париж, увидел, что картины уже стоят по 100 тысяч франков каждая. И купил все снова. Вот таких людей сейчас нет. Это другое сознание. А не просто: гуляет купец! Он понял, что ошибся. И он все равно не ошибся. Поэтому Гоген есть в наших музеях. А сегодняшнее наше сознание – копеечное. Я очень здравый человек. Потому что выживал всегда из ничего. Но мои аргументы не слушают. Если бы нашелся человек, желающий заработать на кино, пришел ко мне, я бы сказал: вот этому, этому, этому дай снимать – пять лет будешь терять, а потом получишь обратно свои денежки, потечет ручеек.
Для своей биографии я знаю одну вещь: свои сценарии я сначала приносил сюда, а потом вынужден был предлагать кому-то там, но никогда не поступал наоборот. Всему есть пределы. Перестройку в кино делали как бы под меня, под Сокурова, под Кайдановского… И как поступили со мной, с этими ребятами? Какая-то половинчатость кругом. Студия и не частная, и не государственная. И рубль не работает, и не рубль не работает. Дурость.
– Как называется ваш последний фильм?
– «Прорва». Я никогда не снимал социальных картин. Но эта очень социальная. С точным названием. Все очень хорошо у нас в стране, но все почему-то ужасно. Картина о многом. В ней нет какой-то одной…
– Идеи?
– Я категорически ненавижу идеи! Они довели искусство до полной потери искусства. «Гамлета» можно в любое время ставить – всегда будет точное попадание. Вот в чем гениальность. Нет у Шекспира идеи. «Прорва» – это слово, которое не переводится ни на один иностранный язык. Поэтому французы переименовали в «Московский парад». Раньше я бы возмутился, протестовал, а сейчас решил – пусть. Там есть парад, так что, по сути, верно. Будет так: «Прорва. Московский парад». Фильм о том, что люди обожают порядок. И это правильно, Поэтому в картине идеальный порядок, ни одной вонючей фактуры. ВДНХ! Балет! Вокзал! И ужас, происходящий на фоне этого великолепия, пафоса, этой монументальности. Ад. Зато все танцуют и поют.
Герой фильма – женский характер. Женщина – существо асоциальное. Как она воспринимает реальность, как выживает. В то время, когда все мужчины занимаются главным делом жизни – готовят парад, за что потом их всех расстреливают. Каждый бьет себя в грудь и говорит: ты понимаешь, что на мне висит! А на них висит парад. Это абсолютно истинная история…
Алла Перевалова
P.S. Иван Дыховичный умер 27 сентября 2009 года на 62-м году жизни.
Ольга Дыховичная стала вдовой в 2009 году, с Иваном Дыховичным они прожили почти 10 лет. До того, как Ольга предала гласности свои отношения с Ангелиной, она не была замечена в романах с женщинами – разве что на экране. В картине Ивана Дыховичного «Вдох-выдох» Ольга участвовала в откровенной сцене с Екатериной Волковой»…