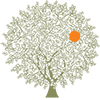Ольга Гусилетова: театр должен быть реанимацией
 Ее путь на сцену московского театра «Школа современной пьесы» пролегал через Хабаровск, где она родилась, Иркутск, где прошла ее юность, ВГИК, где она постигала азы актерского мастерства. Сегодня Ольга Гусилетова сама преподает в РАТИ и ставит спектакли. Она виртуозно владеет импровизацией и умеет через любую роль показать бесконечный космос женской души.
Ее путь на сцену московского театра «Школа современной пьесы» пролегал через Хабаровск, где она родилась, Иркутск, где прошла ее юность, ВГИК, где она постигала азы актерского мастерства. Сегодня Ольга Гусилетова сама преподает в РАТИ и ставит спектакли. Она виртуозно владеет импровизацией и умеет через любую роль показать бесконечный космос женской души.
– Вы играете Машу в «Чайке». Обычно актрисы изображают ее болезненно угрюмой барышней, я бы даже сказала фригидной.
– Иосиф Райхельгауз предложил по-новому взглянуть на чеховскую Машу. Обычно ее делают старой девой в черном и забывают, что Маше всего 18 лет и для нее мир и отношения мужчин и женщин в этом мире – некая игра. У нас она появляется в начале спектакля в светлом платье и, играючи, хватает из корзины первую попавшуюся шаль, которую набрасывает на себя. Когда Медведенко спрашивает ее: «Отчего вы ходите в черном?», – Маша на ходу придумывает себе роль: «Я страдаю, это траур по моей жизни», – и начинает обматывать шаль вокруг себя.
И по ходу спектакля она постепенно вся укутывается в эту черноту. Моя Маша – скорее трагический персонаж. Она заигралась в жертву и не заметила, как стала ею. Мы все заигрываемся в страдания. Это все от нереализованности чувств, от страстного желания сильных эмоций. Кстати, таково свойство всех людей, близких к театральной жизни. Иосиф Леонидович как раз и задумал чеховскую «Чайку» как спектакль о людях театра. В артисты, драматурги и режиссеры идут за тем, чтобы реализовать какую-то свою недожитость. Мы – эмоциональные дети. Если среди нас и встречаются с виду здоровые, то это скорее маскировка. Все равно любого чуть-чуть копни, и поймешь, что еще немножко и все, это…
– …диагноз? А вы когда «заболели»?
– Я с этим диагнозом родилась. С раннего детства все время рыдала, и никто, в том числе я сама, не понимал, по какому поводу. Все меня задевало, на любую мелочь реагировала преувеличенными эмоциями, какой-то болезненной экзальтацией. Из-за ничтожной обиды могла разыграть бесконечную трагическую историю. Я, конечно, догадывалась, что с такой взрывной психикой и импульсивным характером я не пригодна для мирной жизни. И только попав в театральную студию, вздохнула с облегчением: вот оно, мое пространство, где все такие же. Слава Богу, теперь я не погибну в этом мире, есть для нас хоть какая-то резервация, где можно жить.
Семья была уверена, что мое увлечение скоро закончится и я пойду в мединститут, как моя сестра. Даже когда я поехала в Иркутск поступать в театральное училище, родня думала: «Пусть поиграет в актрису, ей всего 15, подрастет – образумится». Когда я в 19 лет вернулась домой, моя тетушка, врач по образованию, стала уговаривать меня поступать в медицинский. «Ну посмотри на меня внимательно, – сказала я ей, – ну какой из меня врач? Ни математику, ни химию, ни физику я даже в школе не понимала. С 11 лет мое образование в этом направлении закончилось». И тут всем стало ясно, что я, наверно, человек пропащий. Никто из родни не желал, чтобы я стал артисткой, но никто и не препятствовал. К тому же все понимали, что при моем упрямстве и напоре останавливать меня бесполезно. Никто не верил, что я поступлю в Москве. Дали денег в одну сторону, чтобы….
– …не вернулась? То есть отправили в никуда?
– Да. Если искать, у кого остановиться, то уже никуда не поедешь, потому что выяснится, что жить негде. Нашла каких-то приятелей, которые учились в Щуке. У них пожила, потом появились еще какие-то связи – так и кочевала по Москве. А вскоре знакомый студент уехал на гастроли и оставил ключи от своей комнаты в общежитии ГИТИСа. А тогда было правило, что гости, остающиеся в общаге до утра, должны платить за ночлег. Поскольку денег у нас не было, мы залезали на второй этаж и тайком пробирались в его комнату.
– Вы выбрали путь творческого человека. Что вы думаете о современной интеллигенции? Мне кажется, это лишние люди на нынешнем празднике жизни, где всем рулят исключительно менеджеры.
– Да, возникает сожаление, когда смотришь на судьбы интеллигентов в нашей стране. Умные, тонкие, ранимые и абсолютно ненужные люди в новом времени, где совершенно другие ценности. Для меня интеллигент в первую очередь значит человек образованный, который знает свои корни, историю и чувствует ответственность за свои дела. Но такие люди не ценятся в нашей стране. Как пример могу привести судьбу питерского писателя Андрея Аствацатурова. Он читает грандиозные, бесподобные лекции по литературе, у него колоссальные знания о культуре. И поразительно то, что каким-то чудом ему удалось вписаться в нашу прагматичную жизнь. При этом он не выглядит сумасшедшим чучелом из прошлого века. Он сам признается, что ему живется совсем нелегко – он преподает в нескольких вузах, но за его блестящие лекции ничтожно мало платят. Много лет он принципиально ездил, не платя, в автобусе: ну если моя страна так ко мне относится, рассуждал он, то и я к ней буду безразличен. Долгие годы жил в состоянии протеста и невостребованности.
 – Странно, что в «Школе современной пьесы» нет остросоциальных, политических спектаклей.
– Странно, что в «Школе современной пьесы» нет остросоциальных, политических спектаклей.
– Есть две попытки: «Звездная болезнь» и «Горе от ума». Сейчас задумывается проект по пьесе Быкова «Медведь». Это будет злой памфлет. Иосиф Леонидович Райхельгауз предложил мне стать ассистентом режиссера, и я, не раздумывая, согласилась. Я всегда, когда нужно решить «делать или не делать» – если это не опасно для жизни, – выбираю делать. К тому же для таких проектов нужны артисты, заряженные актуальной политикой и социалкой. А у нас в труппе либо глубоко театральные люди, живущие исключительно искусством, либо молодежь, которая не сильно увлечена темами коррупции, экономического кризиса и прочими ужасами нашей жизни. И я их не виню.
Когда я в начале 90-х училась во ВГИКе и играла в театре, то была безумно счастлива, несмотря на все беды своей страны. Я помню огромные толпы, которые шли по улицам, чтобы захватить Останкино. Но для меня это был всего лишь фон моей жизни – на тот момент меня больше мучил вопрос: поступлю я во ВГИК, буду ли играть на сцене? Когда я уже репетировала в театре, мне было абсолютно по барабану, что есть нечего и жить негде. Мы уехали на гастроли, и случился дефолт. Наш директор встретила нас в аэропорту со словами: «Какая трагедия!» Она организовала для нас пайки. Мне выдали пачку риса, пачку сахара и бутылку подсолнечного масла. И я не понимала, зачем мне это все, если у меня нет ни дома, ни плитки, ни сковородки. Я жила в гримерке, потому что не на что было снимать квартиру. Но это никоим образом не омрачало мою жизнь. И вовсе не потому, что я такая возвышенная, что все мирское и бытовое мне безразлично. У меня была настолько насыщенная работой жизнь, что мне было не до политики.
– А сейчас?
– Я не могу сказать, что меня не волнует судьба моего государства. Я в курсе того, что происходит, могу ругаться, возмущаться, могу заболеть какой-то проблемой. Но все эти внешние эмоции меня не поглощают целиком. Я сейчас читаю книгу «Я – Майя Плисецкая», где балерина в том числе рассказывает, как гэбисты и партийные боссы отравляли ей жизнь. Тем не менее эта травля не мешала ей жить только танцем. Она же не вносила в балет «Лебединое озеро» никакие идеологические, политические мотивы и свои взаимоотношения с чекистами, которые следили за ней и мешали выезжать за границу.
– Вы по-прежнему кочуете по Москве?
– Нет. У меня есть квартира, за которую я выплачиваю кредит. Но это обстоятельство мало изменило мои приоритеты. Я продолжаю жить пространством театра, пьес, своих надежд.
– Сегодня Москва для вас родной дом?
– Да. Шесть лет назад меня прописали в служебной квартире и поставили в паспорте штамп о московской прописке. Мне выдали медицинский полис, и я почувствовала себя человеком. Я больше не боялась, что меня на улице остановит милиционер и начнет проверять документы. А до этого были случаи, когда меня забирали в милицию. Помню, однажды мы до полуночи репетировали дипломный спектакль. И потом с Леной Ксенофонтовой вышли на улицу и поймали такси. Через пару кварталов нас тормознули гаишники и потребовали удостоверения личности. Мы показали студенческие билеты. А нас арестовали и отвезли в отделение.
Меня сразу посадили в обезьянник, а Лену, поскольку она москвичка, отпустили. Но она меня не бросила. В середине ночи менты стали запихивать ко мне в клетку какую-то девушку, но она, как жихарка, расставив руки и ноги, орала, что боится меня, а вдруг я убийца? Ей выдали пачку салфеток, она сидела рядом со мной на лавке, тряслась от страха и плакала. А я молчала и думала: «Бродский тоже сидел в тюрьме ни за что». Меня выпустили под утро, объяснив, что у них норма по задержанию – 14 человек за ночь.
– Вы такая веселая, озорная, даже не верится, что вы доцент, преподаватель, учите студентов актерскому мастерству.
– Я до сих пор всем говорю, что это шутка, ерунда. И каждый год обещаю себе, что это последний раз, больше не буду. Сама не понимаю, как так получается, что уже восьмой год преподаю. Но я все время себя контролирую, чтобы не превратиться в строгую училку. Иначе можно сойти с ума. Наверно, меня от этого сумасшествия спасает то, что я преподаю заочникам. Мы поучимся-поучимся, а потом вместе играем в одном спектакле, вроде привыкаем, что мы все партнеры. А потом раз – опять на сессию собираемся, и я снова у них учительница.
– Вы своих студентов по Станиславскому учите?
– Ко мне, слава Богу, приходят уже обученными. Сейчас никто не играет по Станиславскому. Сегодня гораздо важнее не система, а технология. В этом смысле меня восхищает режиссер Анатолий Васильев, который серьезно, как и Ежи Гротовски, занимался технологиями. Он превратил свой театр в лабораторию, где проводил эксперименты. Искал новые формы и всегда находил их. Рождение любого его спектакля превращалось в рождение нового театра. Каждая постановка предполагала иную форму существования артиста. Поисками и находками Васильева кормились многие театры. Он раскачивал инертное пространство свежими глубокими идеями. Что касается Иосифа Райхельгауза, то он ищет новые формы не через литературу и искусство, а через психологию людей.
– Смотрю на вас, и думаю: такая умная, жизнерадостная – и до сих пор на свободе! Вы принципиально против замужества?
– Нет, это моя недоразвитость. Я влюбляюсь в недосягаемых людей, которые намного лучше, умнее и талантливее меня, до которых мне как до звезды. А те, кто влюбляется в меня, кажутся недостойными, начинаешь думать, что уже через год с ними будет неинтересно. Бывали случаи, когда мне делали предложение, и один раз я уже практически согласилась, но… сбежала. Испугалась, а вдруг что-то главное пропущу в жизни, что это не мое, я начну проживать не свою, а чужую жизнь. На самом деле мне не хватает семьи, опоры в жизни, родного по духу человека.
– Мужчины-москвичи отличаются от провинциалов?
– Мужчины в провинции более земные, нацелены на то, чтобы развивать в себе брутальные качества, мужественность. К 35 годам они превращаются в кондовых дяденек с набором определенных ценностей и трафаретом жизни, который передается по наследству. Для них очень важны семья, рыбалка, быт. У москвичей жизнь тоже запрограммирована, но по-другому. Они могут материально содержать семью, но эмоционально стараются быть независимыми от нее, чтобы иметь возможность развиваться духовно и карьерно. Они ищут такую спутницу жизни, которая будет им всячески помогать в этом развитии. Семья им нужна как тыл, как продолжение той семьи, где они были детьми.
– А какой вы представляете свою семью?
– В 36 лет ясно, что тебе уже не светят молодоженские отношения. Я четко осознаю, что хочу детей. Для меня муж – это человек, который готов взять на себя ответственность за то, что у нас появятся один-два-три новых человека на свет.
 – В чем для вас смысл рождения ребенка?
– В чем для вас смысл рождения ребенка?
– Диоген говорил, что если нет удовольствия, то должен быть хоть какой-то смысл. Но дети – они не для смысла. У меня есть друзья, но ведь мы живем не ради друзей. У человека накапливаются опыт, знания о мире, и их надо передать. На крайний случай у меня есть ученики. Но природа говорит о том, что должно быть продолжение твоего рода, что есть нечто уникальное, что ты при всем своем желании не можешь передать другому человеку, и это нечто уникальное передается само собой, по крови, наверное.
– А слабо родить вне брака?
– В принципе родила бы. Раньше я была категорически против этого, так как сама выросла в семье без отца и понимала, что мама, всю свою жизнь положив на нас с сестрой, так и не смогла реализовать собственную судьбу, свои мечты. Чтобы одеть, обуть, накормить нас, она вынуждена была тяжело трудиться. Я хотела, чтобы мой ребенок получил больше, чем я, учился хорошо, не стал артистом, чтобы у него был отец, ведь полная дружная семья – залог психического здоровья. Но теперь я понимаю, что те мои страхи были ерундовыми. Все зависит от того, взрослый ты человек или нет. Сегодня я могу спокойно сказать, что способна взять на себя ответственность за ребенка.
– А как же «диагноз»? Вдруг вашим детям передастся по наследству бацилла лицедейства?
– Но есть ведь и другие диагнозы, пострашнее. И еще не известно, что хуже. Я вот родилась не в актерской семье, а что толку?
– Вы говорите, что главное для вас – образование. Когда вы знакомитесь с кем-то, вы спрашиваете, что этот человек читает, какую музыку слушает, какое кино его интересует? И что вы сами читаете, смотрите?
– Мне интересны люди, которые могут дать мне новые знания о мире, культуре. У меня есть пробелы в образовании, и немалые. И заполнить их мне помогают чтение и общение с продвинутыми людьми. Вот почему мне так важно, чтобы собеседник был умнее меня, только тогда я смогу его любить, восхищаться им. Из книг советую всем романы Аствацатурова «Люди в голом» и «Скунскамера». Среди театральных работ самыми необычными мне кажутся спектакли Дмитрия Крымова. Они состоят из каких-то ассоциаций, образов и очень похожи на сны. Я смотрю работы только тех режиссеров, которые ищут новые формы, где случаются какие-то откровения. Если честно, то мне трудно воспринимать драматические, традиционные спектакли.
– Какое может быть откровение в эпоху постмодернизма, когда все идеи уже исчерпаны, все давно сказано и искусство по инерции цитирует само себя?
– Я помню, смотрела фильм Иоселиани «Истина в вине» и где-то на середине картины вдруг все поняла про свою жизнь и даже то, в чем я не могла раньше разобраться. Причем сюжет фильма не имел никакого отношения к моей личной истории. Просто фильм был живой. А когда течет правильная энергия, то она проясняет для тебя многие вещи и становится откровением. Не зря же говорят, что, находясь рядом с просветленным, можно и самому просветлеть.
Там, где есть пространство жизни, ума, осознанности, ясности, где тебя не дурят, где все по-настоящему происходит, рождается откровение. Именно в этом цель театра, а не в том, чтобы какие-то истории рассказывать. Когда на многих уровнях – ментальном, психическом – происходит нечто мистериальное, то оно меняет человека, оживляет его, помогает что-то важное осознать. Появляется желание жизни, и, значит, ты продолжаешься. Театр для зрителя должен быть терапией, вернее реанимацией, чем-то живым, что возвращает к жизни, воскрешает. Если ты выходишь из зала наполненный энергией, идеями, тогда спектакль удачен. А если думаешь: «У, классно было, пойдем бухнем», - тогда это что-то другое, а не театр.
– А что вас оживляет, кроме театра?
– Да много чего. Цветы, например. У меня дома полно цветов и деревьев. Сначала купила полено некрасивое, а из него вдруг выросло дерево до потолка. Потом еще какой-то черенок посадила, и из него получилась раскидистая пальма. Написано, что ее пересаживать надо – я пересаживаю. Написано, что с ней разговаривать следует – разговариваю. Потом постепенно появились какие-то цветочки – и сама покупала, и дарили. И так потихонечку оранжерея получилась. Зимой я свои кадки с горшками на кухню вытаскиваю, весной – на балкон.
– И что, со всей плантацией успеваете беседовать?
– Нет, конечно. У меня для этого юкка (пальма. – Авт.) есть. Когда я ее покупала, умные люди сказали: «Она тебя может не принять. Чтобы пальма к тебе привыкла, ты с ней пообщайся, расположи к себе». Я с ней разговаривала полночи: «Ты меня не бойся. Все нормально будет. Я тебя поливать стану». В общем, заключила с ней сделку. И юкка прижилась. А сейчас, когда приношу домой новые черенки и сажаю их в горшки, то прошу пальму: «Слушай, юкка, объясни им все правила, у меня нет времени с каждым поленом разговаривать». А черенкам говорю: «Все вопросы к юкке, теперь она за вами следит. Она расскажет, что поливать вас не будут, что надо потерпеть».
 – А чем вас можно удивить?
– А чем вас можно удивить?
– Сейчас я вступила в такой возраст, когда меня уже трудно удивить. Это в юности все интересно, ты ищешь и ждешь, что вот самое-то оно и начнется. А когда тебе за 30, то многие идеи кажутся банальными. Вот почему, наверное, вся драматургия ориентирована на совсем молодых, которые еще только развиваются и познают. Для них все ново, все удивительно. К сожалению, в театре сегодня практически нет интересных женских ролей. В моем возрасте предлагают играть либо мать, либо жену, либо женщину с несложившейся судьбой. То есть либо это никчемушка горемычная, либо помощница мужа, этакий его отсвет, которая всю себя посвятила семье, либо брошенная, одинокая страдалица.
Эти убогие трафаретные типажи кочуют из одной пьесы в другую и наводят на меня скуку смертную. А ведь в жизни есть удивительные типы, о которых почему-то никто не пишет. Недавно прочла пьесу Чугунова «C8H11», и она мне очень понравилась. В ней нет рассказа о том, как жили-были. Ее персонажи просто существуют и общаются, как в реальной жизни, нормальным языком, ничего не объясняя зрителям. Это история про умных людей. У нас почему-то боятся выводить на сцену умных, которые говорят на своем языке, не переживая, что в зале сидит один дурак и он ничего не поймет. А скорее всего, этих дураков будет четыреста.
В основном пьесы пишут с расчетом на какого-то среднего театрального потребителя. И когда читаешь эти шаблонные тексты, то заболеваешь: ну что ж такое, я ничего не понимаю, хотя вроде бы пьеса написана для дураков, а ты, получается, еще тупее. И тут на тебя нападет тоска: ну все, конец мне пришел! А вот «C8H11» меня удивила и порадовала. Когда дочитала до конца, поняла, что моя голова отдохнула, потому что я ментально наелась. А настоящая радость всегда вдохновляет и дарит надежду.
Мила Серова